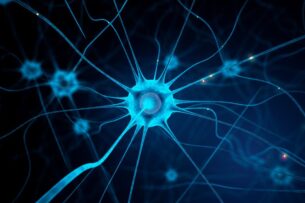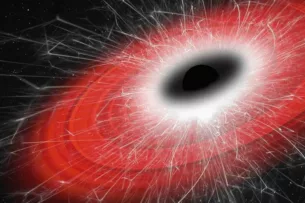Покойный министр обороны США Дональд Рамсфельд в рассуждениях о войне в Ираке допустил колоссальные ошибки. Но, как ни странно, мысли, лежащие в основе этих ужасных ошибок, могут оказаться бесценными в борьбе с нынешним глобальным кризисом. Об этом пишет известный философ Славой Жижек. Текст ниже (перевод Центра политического анализа):
29 июня в возрасте 88 лет скончался Дональд Рамсфелд, министр обороны при президентах Джеральде Форде и Джордже Буше-младшем и один из главных инициаторов вторжения США в Ирак. И в историю он войдет в основном из-за катастрофических последствий этого вторжения.
Целью американской военной интервенции было не просто устранить «угрозу иракского оружия массового поражения» — ни одно из них не было найдено после оккупации Ирака — но и превратить Ирак в современное светское государство, которое сдерживало бы влияние Ирана. В результате, однако, Иран только усилил свое влияние в Ираке, исламский фундаментализм пережил подъем, многие христиане покинули страну, женщины были вытеснены из общественной жизни, а из бардака в Ираке возник ИГИЛ.
Каковы же истоки столь колоссального просчета? Здесь на помощь приходит философия.
В феврале 2002 года Рамсфельд решил немного пофилософствовать на любительском уровне о взаимоотношениях между известным и неизвестным. «Есть известное. То, что мы знаем, что знаем. Мы также знаем, что есть известное неизвестное. То есть, то, о котором мы знаем, что не знаем. Но есть и неизвестное неизвестное. Есть нечто, что мы не знаем, что мы не знаем», — сказал он, отвечая на вопрос о доказательствах того, что Ирак мог поставлять оружие массового уничтожения террористическим организациям.
Но он забыл добавить важный четвертый термин: «неизвестное известное», то, о чем мы не знаем, что знаем — а это именно фрейдовское бессознательное, «знание, которое не знает себя», как говорил Лакан. Если Рамсфельд считал, что главными опасностями в противостоянии с Ираком было «неизвестное неизвестное», угрозы со стороны Саддама, о которых мы даже не подозревали, то наш ответ должен был бы состоять в том, что главной опасностью было, напротив, «неизвестное известное», дезавуированные убеждения и предрассудки, о которых мы даже не подозревали, что до сих пор их придерживаемся.
Это различие между неизвестным неизвестным и неизвестными известным сегодня актуально как никогда.
В случае с экологией дезавуированные убеждения и предрассудки — это то, что мешает нам всерьез воспринимать перспективу катастрофы. И мы даже не можем понять всеобщую реакцию на все еще продолжающуюся пандемию без помощи эпистемологии Рамсфельда.
Еще в апреле 2020 года, реагируя на вспышку вируса Ковид-19, выдающийся немецкий философ и социолог Юрген Хабермас отметил, что «экзистенциальная неуверенность распространяется сейчас глобально и одновременно в умах самих людей, подключенных к СМИ». Он писал: «Никогда еще не было так много знания о нашем незнании и необходимости действовать и жить в условиях неопределенности».
И он был прав, утверждая, что это «незнание» касается не только самой пандемии — у нас, по крайней мере, есть эксперты в этой области, — но еще больше ее экономических, социальных и психологических последствий. Обратите внимание на его точную формулировку: мы не просто не знаем, что происходит, но знаем, что не знаем, и это незнание само по себе является социальным фактом, вписанным в способы функционирования наших институтов.
Сейчас нам известно, что, скажем, в средневековье или начале Нового времени люди знали гораздо меньше, но они не догадывались об этом, поскольку полагались на некую устойчивую идеологическую основу, которая гарантировала, что наша вселенная является осмысленной совокупностью. То же самое относится и к некоторым представлениям о коммунизме, даже к идее Фрэнсиса Фукуямы о конце истории — все они предполагали, что знают, куда движется история.
Хабермас также был прав, когда указал на неопределенность в «общественном сознании, подключенном к СМИ». Подключение к миру по проводам чрезвычайно расширяет наши знания, но в то же время ввергает нас в радикальную неопределенность (нас не взломали? кто контролирует наш доступ к сети? читаем ли мы фальшивые новости?). Мы все еще слышим обвинения в иностранных хакерских атаках на государственные учреждения США и крупные компании, которые служат примером этой неопределенности: американцы сейчас обнаружили, что они даже не могут зафиксировать ни масштабы, ни методы взлома. Для США вирусная угроза является не только биологической, но и цифровой.
Ни для кого не секрет, что необходимо сделать. Во-первых, мы должны, наконец, признать пандемию, чем она на самом деле является: частью глобального кризиса всего нашего образа жизни, от экологии до новых общественных противоречий. Во-вторых, мы должны установить общественный контроль и ввести регулирование экономики. В-третьих, мы должны в наших действиях опираться на науку, но не так, чтобы непосредственно взять ее в качестве инструмента принятия решений. Чтобы объяснить почему, вернемся к Хабермасу: наше затруднительное положение заключается в том, что мы вынуждены действовать, зная при этом, что не знаем всех координат ситуации, в которой находимся, и тогда даже бездействие само по себе функционировало бы как действие. Но разве не таковы главные условия любого действия? Наше огромное преимущество в том, что мы знаем, как много мы не знаем, и это знание о нашем незнании открывает пространство свободы. Мы действуем, когда не знаем всей ситуации, но это не просто ограничение для нас. Свободу нам дает то, что ситуация — по крайней мере в общественной сфере — сама по себе открыта, не полностью (или заранее) определена.
Мы должны воспринимать утверждение Хабермаса о том, что мы никогда столько не знали о нашем незнании, через категории Рамсфельда: пандемия пошатнула то, что мы (как мы думали) знали, что знали; она заставила нас осознать то, чего мы не знали, что не знали; и то, как мы боролись с ней, показало, чего мы не знали, что знали (все наши предположения и предрассудки, которые определяют наши действия, даже если мы их не осознаем). Здесь мы имеем дело не с непосредственным переходом от незнания к знанию, а с гораздо более тонким переходом от незнания к знанию того, чего мы не знаем – позитивное содержание нашего знания остается неизменным в этом переходе, но зато мы получаем свободу действия.
Лучшим образом характеризует то, чего мы не знаем и наши предположения и предрассудки, тот факт, что меры, предпринятые Китаем (а также Тайванем и Вьетнамом) в отношении пандемии, оказались намного лучше, чем в Европе и США. Я уже устал от вечно повторяющегося утверждения: «Да, китайцы победили вирус, но какой ценой?»
Хотя только за счет утечки информации мы сможем узнать всю правду о том, что там творилось на самом деле, факт остается фактом: когда вирус вспыхнул в Ухани, власти ввели локдаун и остановили большинство производств по всей стране, явно отдавая приоритет человеческим жизням, а не экономике. Это произошло с некоторой задержкой, правда, но они отнеслись к кризису очень серьезно. Теперь они пожинают плоды, в том числе экономические. И — давайте начистоту — это стало возможным только потому, что Коммунистическая партия по-прежнему способна контролировать и регулировать экономику: существует общественный контроль над рыночными механизмами, пусть и «тоталитарный». Пандемия — это не просто процесс распространения вируса; это процесс, происходящий в определенных экономических, социальных и идеологических координатах, которые открыты для изменений.
Согласно теории сложных систем, такие системы обладают двумя противоположными свойствами: устойчивым характером и крайней уязвимостью. Эти системы могут отвечать на большие вызовы, интегрировать их и находить новое равновесие и приобретать устойчивость — до определенного порога («критической точки»), сверх которого даже небольшой вызов может привести к полной катастрофе и установлению совершенно иного порядка. На протяжении многих веков человечеству не приходилось беспокоиться о воздействии на окружающую среду своей производственной деятельности — природа была способна приспособиться к вырубке лесов, использованию угля и нефти и т. д.
Однако, похоже, что сегодня мы приближаемся к переломному моменту — в этом нельзя быть уверенным, поскольку такие моменты могут быть четко осознаны только тогда, когда уже слишком поздно. Таким образом, мы сталкиваемся с дилеммой, связанной с необходимостью срочно что-то делать с сегодняшней угрозой различных экологических катастроф: либо мы принимаем эту угрозу всерьез и решаем сегодня сделать то, что, если катастрофа не произойдет, покажется смешным; либо мы ничего не делаем и теряем все в случае катастрофы. Худший вариант — это выбор золотой середины, принятие ограниченного количества мер — в этом случае мы потерпим неудачу, что бы ни случилось.
Иными словами, проблема заключается в том, что в отношении экологической катастрофы нет середины: либо она произойдет, либо нет. В такой ситуации разговоры о предвидении, предосторожности и контроле рисков теряют смысл, поскольку мы имеем дело с «неизвестным неизвестным»: мы не только не знаем, где находится переломный момент, но и не знаем, чего именно мы не знаем.
Вызывающий наибольшую озабоченность аспект экологического кризиса касается так называемого естественного знания, которое может сработать неправильным образом: например, когда зима слишком мягкая, то растения и животные могут неверно воспринять теплую погоду в феврале как сигнал о том, что весна уже началась, и начать вести себя соответствующим образом, тем самым не только делая себя уязвимыми для поздних холодов, но и нарушая весь ритм естественного воспроизводства. Именно так следует представлять себе возможную катастрофу: прерывание на малом уровне с разрушительными глобальными последствиями.
Итак, в заключение, поскольку мы должны с почтением следовать старой римской пословице «De mortuis nihil nisi bonum» («О мертвых или ничего, или хорошо»), нам следует забыть все катастрофические решения Дональда Рамсфельда и помнить его как философа-любителя, который ввел некоторые различия, полезные для анализа нашего нынешнего затруднительного положения.