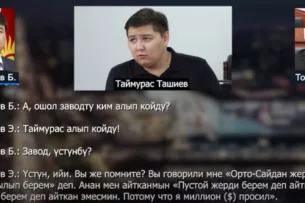Недавние события, которые выглядят триумфом религиозного фундаментализма, представляют собой не возвращение религии в политику, а просто возвращение политического как такового, как считает словенский философ Славой Жижек.
Падение режима Башара Асада в Сирии удивило даже оппозицию во главе с (запрещенной в РФ – прим.пер.) Хайят Тахрир аш-Шам Абу Мохаммада аль-Джолани, предложив плодородную почву для теорий заговора.
Какую роль сыграли Израиль, Турция, Россия и США в этом внезапном повороте событий? Воздержалась ли Россия от вмешательства в интересах Асада просто потому, что не может позволить себе еще одну военную операцию за пределами украинского театра военных действий, или же была какая-то закулисная сделка? Попали ли США снова в ловушку поддержки исламистов против России, проигнорировав уроки своей поддержки моджахедов в Афганистане в 1980-х годах? Что сделал Израиль? Он, безусловно, извлекает выгоду из отвлечения внимания мира от Газы и Западного берега и даже захватывает новые территории на юге Сирии для себя.
Как и большинство комментаторов, я просто не знаю ответов на эти вопросы, поэтому предпочитаю сосредоточиться на более общей картине. Общая черта истории, как в Афганистане после вывода войск США и в Иране во время революции 1979 года, заключается в том, что не было большой, решающей битвы. Режим просто рухнул, как карточный домик. Победа досталась той стороне, которая действительно была готова сражаться и умирать за свое дело.
Тот факт, что режим презирали все, далеко не полностью объясняет произошедшее. Почему исчезло светское сопротивление Асаду, а остались только мусульманские фундаменталисты, которые смогли захватить власть? Тот же вопрос можно поставить в случае Афганистана. Почему тысячи людей были готовы рисковать своими жизнями, чтобы успеть на рейс из Кабула, но не сражаться с Талибаном? Вооруженные силы старого афганского режима были лучше экипированы, но они попросту не хотели сражаться.
Подобный набор фактов очаровал философа Мишеля Фуко, когда он посетил Иран (дважды) в 1979 году. Он был поражен тем, что он считал безразличием революционеров к собственной судьбе. Это была «партийная агонистическая форма сказать правду», — как считает Патрик Гамез. Они стремились к «трансформации через борьбу и испытания, в отличие от умиротворяющих, нейтрализующих и нормализующих форм современной западной власти. … Чтобы понять подобное решающим значением обладает представление о правде в действии… представление о партийной правде, зарезервированной для членов партии».
Как выразился сам Фуко: «… если этот субъект, говорящий о праве (или, скорее, правах), говорит правду, то эта правда уже не является универсальной философской истиной. … Он интересуется тотальностью лишь в той мере, в какой он может видеть ее с одной стороны, искажать ее и видеть ее со своей собственной точки зрения. Истина, иными словами, есть истина, которая может быть развернута только с боевой позиции, с точки зрения взыскуемой победы и, в конечном счете, ценой, так сказать, выживания самого говорящего субъекта».
Можно ли отвергнуть эту перспективу как свидетельство домодерного «примитивного» общества, которое еще не открыло для себя современный индивидуализм? Для любого, кто хотя бы немного знаком с западным марксизмом, ответ ясен. Как утверждал венгерский философ Георг Лукач, марксизм «универсально истинен» именно потому, что он «частичен» по отношению к определенной субъективной позиции. То, что Фуко искал в Иране — агонистическая («военная») форма утверждения правды — уже с самого начала было у Маркса, который видел, что участие в классовой борьбе не является препятствием к приобретению «объективного» знания истории, а скорее предпосылкой для этого.
Позитивистская концепция знания как «объективного» выражения реальности — то, что Фуко охарактеризовал как «умиротворяющие, нейтрализующие и нормализующие формы современной западной власти» — это идеология «конца идеологии». С одной стороны, у нас есть якобы неидеологическое экспертное знание; с другой стороны, мы имеем разрозненных индивидов, каждый из которых сосредоточен на своей идиосинкразической «заботе о себе» (термин Фуко) — мелочах, которые приносят удовольствие в жизнь. С этой точки зрения либерального индивидуализма любая серьезная ангажированность, особенно если она включает риск для жизни и здоровья, подозрительна и «иррациональна».
Здесь мы сталкиваемся с интересным парадоксом: хотя традиционный марксизм, вероятно, не может дать убедительного ответа на причины успеха Талибана (запрещено в РФ – прим. пер.), он помогает прояснить, что Фуко искал в Иране (и что должно очаровывать нас в Сирии). В то время, когда триумф глобального капитализма подавил светский дух коллективного участия в поисках лучшей жизни, Фуко надеялся найти пример коллективного участия, который не опирался бы на религиозный фундаментализм. Он этого не сделал.
Лучшее объяснение того, почему религия сейчас, похоже, удерживает монополию на коллективное участие и самопожертвование, дает Борис Буден, который утверждает, что религия как политическая сила отражает постполитический распад общества — распад традиционных механизмов, которые гарантировали устойчивые общественные связи. Фундаменталистская религия не только политическая; она сама по себе политика. Для ее приверженцев она уже не просто социальное явление, но и сама текстура общества.
Таким образом, больше невозможно отличить чисто духовный аспект религии от ее политизации: в постполитической вселенной религия — это канал, по которому возвращаются антагонистические страсти. Свежие события, которые выглядят как триумф религиозного фундаментализма, представляют собой не возвращение религии в политику, а просто возвращение политического как такового.
Тогда возникает вопрос: что же случилось со светской радикальной политикой (великим забытым достижением европейской современности)? В его отсутствие Ноам Хомский полагает, что мы приближаемся к концу организованного общества — точке невозврата, за которой мы не можем даже принять разумные меры, чтобы «предотвратить катастрофическое разрушение окружающей среды». В то время как Хомский сосредоточен на безразличии к окружающей среде, я бы расширил его точку зрения на наше общее нежелание участвовать в политической борьбе в целом. Принятие коллективных решений для предотвращения предсказуемых бедствий — это исключительно политический процесс.
Проблема Запада в том, что он совершенно не желает бороться за большое общее дело. Итальянский философ Франко Берарди прав. Мы наблюдаем «распад западного мира».
PS. Публикуется с небольшими сокращениями.