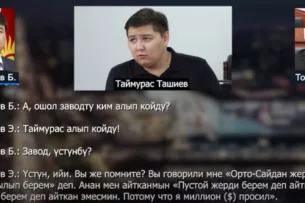Если, при Назарбаеве всеми заправляли шапырашты, то теперь, что скрывать, в обществе много разговоров о сородичах действующего президента во властных структурах, пишет известный казахский политик Амиржан Косанов:
За последние дни президент Казахстана сделал несколько очередных кадровых перестановок: освободил (в который раз!) Тамару Дуйсенову от должности заместителя премьер-министра и назначил ее своим помошником, а заместителем премьер-министра стал Ермек Кошребаев, бывший посол Казахстана в Росси и бывший аким Восточно-Казахстанской области); освободил от должности акима области Абай Нурлана Уранхаева, которую тот занимал с момента воссоздания региона в середине 2022 года, и назначил вместо него своего пресс-секретаря Берика Уали, а на место последнего вернул Руслана Желдибая. Кроме того, Ерулан Жамаубаев стал первым зампредом финансового регулятора — прежде он был советником президента и занимал пост министра финансов.
Помнится, Ахиллесовой пятой экс-елбасы была кадровая политика, которая, в конце концов, и привела его правление к бесславному концу. Посмотрим изменились ли основные принципы при подборе и расстановке кадров при Токаеве?
Первый принцип у Назарбаева, конечно, был определяющим – абсолютная лояльность и беззаветная преданность, не допускающая собственного мнения. Туда же я отнес бы и готовность исполнить любое (как показывает недавняя практика, даже незаконное!) поручение главного начальника. Не исключаю, что Назарбаев таким образом мог замарать любого подчиненного, чтобы держать его на коротком поводке и, если у того появятся определенные амбиции (или, не дай Бог, он уйдет в оппозицию!), иметь на него весомый компромат.
Но у нас все тайное становится явным только после ухода большого начальника со своего поста (как это случилось с Назарбаевым), так что о применении или неприменении вышеперечисленных критериев при Токаеве пока говорить рано.
Однако, быть лояльным вовсе не значит быть глухим и немым, не иметь собственного мнения и покорно соглашаться с любой, даже одиозной инициативой начальника. Пока же не видно во власти живых дискуссий, по самым животрепещущим проблемам жизни общества, как не видно и убежденных и убедительных защитников уже принятых решений. Видимо, по этой причине многие из них на поверку оказываются сырыми и некондиционными, и через некоторое пересматриваются. Как это произошло, например, с псевдореформой администрации президента: убрали должности заместителей руководителя администрации президента, а потом вернули. Видимо здесь сыграли роль пороки старого Казахстана, такие, как трайбализм, кумовство, клановость, которые, к большому сожалению, плавно перетекли в Новый Казахстан.
Принцип абсолютной лояльности противоречит вовлечению наиболее авторитетных представителей гражданского общества (а оно, несмотря на все желания власти приручить его, существует) во властные структуры.
Судя по последним кадровым перестановкам (скамейка запасных оказалась слишком короткой), и у нас уже сформировался институт — «окружение Токаева».
Возьмем, к примеру, новые назначения, о которых я говорил в начале статьи. Такие ли они – «новые»? Госпожа Дуйсенова занимала пост вице-премьера еще в 2013–2014 годах, а потом в период с 2017 по 2018 год. Несколько раз была министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и при Назарбаеве, и при Токаеве, была и помощником президент. Но нередко подвергалась критике во время своей работы.
Тот же Кошербаев, кроме того, что занимал разные должности в системе МИД Казахстана, был и консультантом в аппарате президента, исполнял обязанности руководителя протокольной службы президента, работал помощником премьер-министра, затем — в «Фонде образования Нурсултана Назарбаева». То есть, «чужие» здесь не ходят. Их «гоняют» по кругу с должности на должность и при первом президенте, и при втором. Но тут, как в басне Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». От перемещения одних и тех же чиновников с должности на должность – казна не пополняется. Скорее – истощается.
А привлечение активных, имеющих собственное мнение, профессионалов освежило бы кадры, привнесло бы новые идеи, о которых постоянно говорит президент и, что немаловажно, увеличило бы число сторонников самого Токаева, ибо у каждого авторитетного общественного деятеля есть свой круг сторонников. Но пока такой позитивной тенденции я не вижу.
Вторым принципом Назарбаева (особенно, в начале президентской карьеры) была общая биография, личное знакомство с имяреком на различных этапах карьерной лестницы. Советско-партийная система, откуда он вышел, была поставщиком многих кадров (правда, позже он к ним охладел, даже, строил против них козни, видимо, не хотел, чтобы рядом были люди, которые знали его до восхождения на трон). Похоже, то же самое происходит и с Токаевым: карьерный дипломат, всю жизнь занимавшийся внешней политикой, активно привлекает в государственные дела своих бывших коллег: у нас налицо неправомерная МИДийная кадровая политика государства. Благо, занимались бы они дипломатией, ан-нет, лезут во все сферы госслужбы, не имея мало-мальских профессиональных навыков: видимо, принцип лояльности все-таки определяющий в Новом Казахстане.
Но важно понимать — одно дело заниматься внешней политикой, и совсем другое – внутренней, требующей совсем иных знаний и опыта. Одно дело быть хорошим послом — исполнителем приказов, и совсем другое – акимом – хозяйственником, которому необходимо знать экономику, сельское хозяйство, промышленность, коммунальную сферу, общаться с простыми людьми на их языке (знание иностранных языков, диппротокола и дипэтикета в данном случае — лишнее).
Во всяком случае, таких прорывных акимов-дипломатов я пока не вижу (а лояльное отношение Токаева к своим фаворитам не может быть вечной гарантией их карьерного благополучия). Надеюсь, со временем Токаев поймет пагубность такой однобокой кадровой политики.
Другой характерной чертой кадровой политики второго президента стала чрезмерная текучесть кадров: министры и акимы, особенно их заместители, меняются так часто, что не успеваешь запомнить их фамилии. А это показатель некачественной работы администрации президента по подбору и расстановке кадров, непрекращающейся подковерной борьбы кланов за влияние во власти и, что немаловажно, недовольство самого президента ранее принятыми кадровыми решениями: иначе, зачем же их менять?!
Словом, наши кадры приходят громко (когда их представляют много говорят об их положительных деловых качествах), а уходят… молча. Тот же президент при выдвижении министра или акима на высокий пост дает им прекрасные характеристики, но, когда отправляет их в отставку, от него нет никаких разъяснений, почему он их снял с должности.
Безотчетность порождает безответственность. «Қарға қарғаның көзін шұқымайды» («ворон ворону глаз не выклюет»). Налицо отсутствие общественного (в нашем случае и парламентского) контроля. Отсюда — круговая порука чиновников всех уровней!
Не избавились мы и от такой порочной практики кадровой обоймы, когда персоны по горизонтали плавно переходят от одной высокой должности к другой. Такое ощущение, что они помечены Богом и теперь «обречены» всю жизнь быть, как у Христа за пазухой за счет народа. И будут зубами держаться за этот комфортный статус, понимая, что в случае прихода во власть более сильных кадров, окажутся неконкурентоспособными и могут потерять свои теплые места.
Я уже говорил выше, что чрезвычайно опасны для единства нации пороки старого Казахстана: трайбализм, кумовство, клановость, протекционизм, мздоимство. «Естіген құлақта жазық жоқ» («уши, которые услышали, не виноваты») гласит казахская мудрость. Конечно, за руки я никого не ловил, но в разговорах со сведущими людьми вновь и вновь убеждаюсь, что эти рецидивы старого Казахстана, к сожалению, имеют место и в Новом. Особенно много говорят о трайбализме. Если, при Назарбаеве всеми заправляли шапырашты, то теперь, что скрывать, в обществе много разговоров о сородичах действующего президента во властных структурах.
Не исключено, что эти уродливые проявления могут «выстрелить» завтра, когда будет определяться транзит власти от Токаева к преемнику.