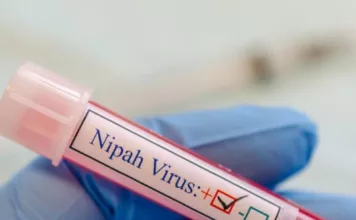Строительный бум, быстрая урбанизация и рост населения в странах Центральной Азии происходят на фоне почти полного отсутствия системы управления отходами. Перерабатывается лишь малая часть, остальное отправляется на огромные полигоны, где мусор закапывают или сжигают, отравляя воздух, воду, почву и превращая пригородные зоны в настоящие зоны экологического бедствия.
Какой путь утилизации отходов наиболее эффективный и наименее безопасный для экологии и здоровья населения? Редакция Азаттык Азия попыталась разобраться.
«ВСЁ ВЫБРАСЫВАЕТСЯ В ОДИН БАК». ПРОБЛЕМА, КОТОРУЮ НЕ РЕШАЮТ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ
Переполненные контейнеры и груды мусора давно стали привычной частью городского пейзажа в Таджикистане. В беднейшей стране Центральной Азии до сих пор не сформирована полноценная система управления мусором. Сортировка практически отсутствует, переработка ограничивается отдельными частными инициативами, а основная масса отходов просто гниёт на свалках.
По официальным данным, в Таджикистане насчитывается более 70 полигонов для твёрдых бытовых отходов. Как говорит независимый экоактивист из Душанбе Тимур Идрисов, ни один из них не соответствует современным стандартам.
«Раздельного сбора мусора в стране нет: всё выбрасывается в один бак. Тем не менее, продолжают работать десятки небольших перерабатывающих цехов, которые пытаются дать вторую жизнь пластику, металлу и другим видам отходов», — отмечает Идрисов.
По его словам, проблема управления отходами в Таджикистане практически не меняется десятилетиями, несмотря на периодические заявления властей.
На недавней встрече с представителями Комитета по охране окружающей среды президент Эмомали Рахмон заявил, что ежегодно в стране образуется свыше 2 миллионов тонн твёрдых бытовых отходов, а площадь официальных полигонов превышает 300 гектаров. Он сказал о необходимости строительства мусороперерабатывающих заводах во всех регионах страны.
Сотрудник Госкомитета по охране окружающей среды Таджикистана, согласившийся побеседовать с Азаттык Азия на условиях анонимности, рассказал, что после той встречи была разработана Национальная стратегия по управлению отходами до 2040 года, которую в ближайшее время направят на рассмотрение в правительство.
Стратегия предполагает два ключевых направления: принцип «ноль отходов на полигонах», то есть мусор должен сортироваться и получить второй шанс на переработку и производство новых продуктов потребления, а не подлежащие переработке отходы будут уничтожаться с выработкой энергии по технологии Waste to Energy (Энергия из отходов).
«Уничтожение отходов может происходить контролируемым способом с применением новейших технологий. Для этого потребуется рекультивация земель, ныне захламленных отходами. Но прежде всего необходимо выстроить эффективную систему сортировки с места образования отходов. Потребуется реформа системы обращения с отходами, где пункты сбора отходов могут быть приватизированы и подчинены общим правилам, соответствующим экологическим и санитарным нормам», — отметил представитель Комитета.
По мнению экоактивиста Тимура Идрисова, в приоритете государства должно быть не просто управление накопившимся мусором, а предотвращение его образования. «Это отказ от одноразовых товаров, развитие сферы ремонта и переход на многоразовую упаковку. Сюда же можно отнести, например, запрет на некритичные одноразовые товары и упаковки», — сказал он.
На втором этапе — сортировка и переработка, которая требует налаженной системы раздельного сбора от населения и развития инфраструктуры по переработке вторсырья.
«Эффективная и налаженная система управления отходами, по идее, означает, что до сжигания отходов дело не должно доходить. Проще говоря, продукты и вещи должны быть прочными, надежными и долговечными. Возможность их ремонта и повторного использования должна быть широкодоступна. Количество чрезмерной упаковки должно быть минимизировано. Необходимо отказываться от того, что не может быть переработано или безопасно утилизировано, и находить альтернативы», — считает Идрисов.
Он подчеркивает важность комплексного подхода: просвещение населения, административные и экономические меры. Одним из таких решений может стать залоговая стоимость тары или оплата по объёму мусора по принципу «платишь столько, сколько выбрасываешь» или внедрение расширенной ответственности производителей (РОП), когда компании обязаны утилизировать свои товары и упаковку после использования.
Механизм РОП (проще говоря, принцип «загрязнитель платит») был запущен в Казахстане в 2016 году. Компании, выпускавшие определённые виды товаров, оплачивали утильсбор, а Оператор РОП должен был направлять эти средства на сбор и переработку отходов.
По словам председателя правления Ассоциации практикующих экологов в Казахстане Лауры Маликовой, схема показала эффективность: доля переработки упаковки выросла с 2,6 процента в 2016 году до 21 процента в 2021 году, существенное увеличение произошло после запуска Оператором РОП программы «EcoQolday».
Но после Январских событий 2022 года вся система была свернута: вслед за протестами и кровопролитием экс-президент Нурсултан Назарбаев утратил былое влияние, а члены его семьи лишились некоторых активов. Оператор РОП, который связывали с младшей дочерью бывшего главы государства Алией Назарбаевой, обвинили в непрозрачности, его менеджмент — в хищениях.
«Из-за политического давления прежнего Оператора РОП устранили, выплаты малым предприятиям остановили, и сотни переработчиков закрылись или ушли в тень. В Астане, где раньше перерабатывалось 21 процент упаковки, показатель упал до прежних 2,6 процента», — отмечает собеседница.
По словам Маликовой, теперь мусоровывозящие компании, сортировочные линии живут только на тарифы, которые собираются с населения, — и денег не хватает даже на поддержание инфраструктуры, не говоря уже о развитии.
В Казахстане остаётся критической ситуация с полигонами твердых бытовых отходов. Из почти 3 тысяч официальных свалок санитарным нормам фактически соответствует только одна — в Астане. Большинство полигонов незаконно сжигают отходы. Недавно под Алматы такой пожар продолжался несколько дней, и дым накрыл весь город.
Чтобы сдвинуть ситуацию с мёртвой точки, нужно, как считает Маликова, вернуть правила выплат средств утильсбора 2021 года и обеспечить на деле поддержку всем звеньям цепочки — от сбора до переработки. Также необходимо улучшать материально-техническое состояние централизованной системы вывоза коммунальных отходов за счёт средств утильсбора. Акиматы, по её словам, должны развивать государственно-частное партнёрство, а не расторгать долгосрочные договоры, как это произошло в Алматы. Кроме того, для строительства новых полигонов нужно выделять землю и предоставлять инвесторам гарантию возврата вложений — иначе никто не пойдёт в эту сферу.
СЖИГАНИЕ МУСОРА: ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ ИЛИ УСУГУБЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ?
Экоактивист и фотограф из Кыргызстана Владислав Ушаков, один из инициаторов создания интерактивной карты ecomap.kg, на которой фиксируются экологические и природоохранные объекты, загрязнения и инциденты по Кыргызстану, называет мусорный кризис общей проблемой стран Центральной Азии.
«Везде одни и те же проблемы: переполненные полигоны, отсутствие раздельного сбора, слабая инфраструктура и хронический дефицит эффективных решений», — говорит он.
Ушаков скептически относится к теме переработки пластика. Он объясняет, что пластик, в отличие от бумаги или алюминия, не поддаётся многократной переработке. Большинство пластиковых изделий проходят максимум один-два цикла переработки. «Из 20 пластиковых бутылок, скажем, из-под Кока-колы делают вешалку или тазик, который ломается через год и снова оказывается на свалке. В итоге тот же мусор, только в другой форме», — говорит эксперт.
«Пластиковый рециклинг — это не экология, а бизнес. Освоение бюджетов, «зелёный» маркетинг, все, что угодно, но не реальное решение проблемы», — отмечает Ушаков.
Особое беспокойство у экоактивиста вызывает тема микропластика, который проникает в почву и подземные воды.
Власти Кыргызстана, где, по разным оценкам, на свалках и полигонах уже накоплено до 17 миллионов тонн отходов, объявили о первых шагах к системной утилизации. В декабре 2025 года в Бишкеке планируется открыть первый в стране мусоросжигательный завод. На первом этапе завод сможет перерабатывать до тысячи тонн мусора в сутки и производить до 30 мегаватт-часов электроэнергии.
«Строительство практически на 80 процентов завершено. Я надеюсь, такие объекты появятся и в других регионах страны», — говорит собеседник.
А до этого на этом месте находилась главная свалка Бишкека, которая горела восемь лет подряд, прежде чем активистам удалось добиться её тушения.
Кроме Бишкека, подобные проекты рассматриваются в Оше, Балыкчи и Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области. Там китайские компании планируют возвести мусоросжигательные установки и сортировочные станции.
Ушаков считает, что мусоросжигание, несмотря на экологические риски, пока остаётся наиболее эффективным решением. «Да, сжигание вредит экологии. Но на сегодняшний день человечество не придумало ничего более действенного. Главное — технологии, качество исполнения и строгий контроль. Нельзя экономить на таких проектах. Контракты должны заключаться только с теми компаниями, которые могут доказать безопасность своих технологий и пройти международную сертификацию. Иначе вместо утилизации мы получим выбросы канцерогенов и угрозу для здоровья людей», — говорит Ушаков.
Он приводит в пример Японию, где мусоросжигательные заводы стоят в центре городов и не представляют опасности. «Всё дело в надёжности технологий. За рубежом уже не говорят «сжигание» — теперь это «тепловая переработка», при которой получают энергию, тепло, электричество. По сути, ТЭЦ на мусоре», — объясняет собеседник.
БЫЛА СВАЛКА — ТЕПЕРЬ ЭНЕРГОВЫРАБАТЫВАЮЩИЕ МОЩНОСТИ
Ставку на строительство мусоросжигающих заводов делают в Узбекистане, где тоже пытаются найти ответ на остро стоящую проблему мусора. В стране внедряют технологию Waste to Energy (Энергия из отходов). В 11 областях при участии инвесторов из Китая и Объединённых Арабских Эмиратов уже началась реализация масштабного проекта стоимостью 1,28 миллиарда долларов. По плану, эти заводы будут сжигать до 4,7 миллиона тонн мусора в год, вырабатывая 2,1 млрд кВтч электроэнергии, что, по прогнозным оценкам, позволит сократить количество свалок в пять раз.
В Узбекистане ежегодно образуется более 10 миллионов тонн твёрдых бытовых отходов, при этом перерабатывается лишь около 4,2 процента. Основную часть мусора составляют органические отходы (37 процентов), пластик (12 процентов), а также строительный мусор, подгузники (24,5 процента). Остальное захоранивается на более чем 200 полигонах по всей стране, 26 из которых официально закрыты из-за нарушений экологических и санитарных норм.
Эколог из Узбекистана Собирхон Машрабов считает, что если мусоросжигательные заводы будут построены в срок, это позволит не просто сократить захоронение отходов, но и получить от них реальную пользу в виде электроэнергии.
Он приводит в пример рекультивацию свалки в Ташкенте, на месте которой теперь добывается метан и вырабатывается электричество. Проект обошёлся бюджету в 87 миллионов долларов, и, по мнению эксперта, полностью оправдал себя.
«Среди других крупных проектов — строительство энергогенерирующих объектов с участием иностранных инвесторов. В Ахангаране при поддержке корейской компании Sejin G&E идет реализация проекта на 55 миллионов долларов по выработке энергии из свалочного газа», — отмечает Машрабов.
СЖИГАНИЕ БЕЗ СОРТИРОВКИ — ТЕЛЕГА ПЕРЕД ЛОШАДЬЮ?
В Казахстане, где ежегодно образуется более 4,5 миллиона тонн мусора и перерабатывается около четверти от общей массы отходов, власти тоже заговорили о строительстве мусоросжигательных заводов. В правительстве ссылаются на европейский опыт как на образец для подражания.
В марте 2025 года новый вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев во время поездки в Костанай сообщил, что в Европе работает около 500 таких заводов и выбросы от них «практически нулевые»: «Я был на одном из них. Там замеры выбросов делаются каждые 10 секунд. Разрабатываются новые технологии переработки золы и остатков горения», — заявил он.
Однако казахстанская журналистка Ольга Лихограй, которая в рамках международного экологического проекта лично побывала в начале 2025 года на крупнейшем мусоросжигательном заводе Чехии — Малешице — говорит, что уровень контроля и очистки, который есть в Европе, в Казахстане вряд ли достижим.
«Самое поразительное [в Малешице] — степень очистки и независимого контроля, — рассказывает Лихограй. — Завод строили 10 лет за счёт бюджета Праги. Начали ещё в 1988 году, но после «бархатной революции» долго решали, кому он будет принадлежать. За это время экологические нормы ужесточились, и проект пришлось переделывать: сначала добавили влажный фильтр, потом катализатор, а затем — четырёхфазную систему для удаления диоксинов».
Основное оборудование на заводе немецкого и швейцарского производства. Для очистки газов используется гашёная известь и активированный уголь, которые смешиваются с водой и распыляются в виде микрокапель. Это позволяет превращать твёрдые отходы в пепел, а дым — в безопасный пар. Благодаря технологии завод может сжигать даже пластик, предварительно смешивая его с другим мусором.
Но ключевая деталь на заводе — независимый контроль. «На выходе стоит датчик, к которому сам завод не имеет доступа. Данные получает чешская инспекция охраны природы. Измерения проводятся каждую минуту, каждый час и каждые сутки. Даже при такой очистке первые часы после выброса могут быть превышения — и они фиксируются. Если средние значения не соответствуют норме, заводу грозит штраф», — объясняет журналистка.
При этом Малешице не просто утилизирует мусор, но и вырабатывает энергию: в 2023 году он произвёл рекордные 75 330 МВт электроэнергии. Этого хватает на 18 тысяч пражских домохозяйств. Электричество и тепло завод продаёт поставщикам. Эффективность повышает и растущая доля сортировки — в среднем на 20 процентов в год.
«В Европе сортировка — это первое и главное. Только потом переработка и сжигание, — подчёркивает Лихограй. — А у нас до сих пор нет даже цветных контейнеров для раздельного сбора мусора. Была попытка установить такие урны, но весь мусор из них просто загружали в одну машину. В Праге я видела, как каждый тип отходов забирают разные машины».
По её словам, пока в Казахстане не будет налажена хотя бы базовая система сортировки, говорить о чистом и эффективном сжигании мусора рано.
А ЧТО С ПЕРЕРАБОТКОЙ МУСОРА? ЕДИНИЧНЫЕ УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ
Казахстан и Узбекистан, две ведущие экономики центральноазиатского региона, стремятся привлечь инвесторов из-за границы и ориентироваться на передовой зарубежный опыт в решении проблемы отходов. Но переработка по-прежнему остается на низком уровне.
В Узбекистане она держится в основном на плечах более чем 300 государственных и частных предприятий, которые занимаются сбором и утилизацией пластика, бумаги и металла. Система сортировки в стране развита слабо. В 2017 году Узбекистан одним из первых в регионе принял закон об обязательной раздельной сортировке мусора, но, по наблюдениям эксперта Собирхона Машрабова, на практике это почти не работает.
Особенно остро, по мнению эколога Машрабова, стоит вопрос переработки органических отходов, которых в структуре твердых бытовых отходов более трети. Пока в этой сфере реализуется только один пилотный проект в Ангрене, где из пищевых и растительных остатков производят удобрения. Однако масштабировать инициативу не удаётся — ни инфраструктурно, ни финансово.
В Казахстане даже в условиях слабой инфраструктуры можно найти успешные примеры переработки. Вдали от крупных городов появляются небольшие, но эффективные проекты по утилизации шин, пластика и органики.
На севере страны, в Костанае, вот уже три года работает компактный завод по утилизации автомобильных шин. Две машины ежедневно бесплатно объезжают город в поисках старой резины, часть водителей привозит её самостоятельно — на территории завода создана приёмная площадка. После сортировки и измельчения шины превращаются в резиновую крошку, которую используют для изготовления тартанового покрытия на детских и спортивных площадках. Недавно здесь освоили производство цветной резиновой плитки — прочной, устойчивой к погоде и пригодной для обустройства дворов и тротуаров.
Государственная поддержка таких инициатив минимальна — несмотря на декларируемую важность переработки, субсидии получить крайне сложно. Раньше, при РОП, переработчиков стимулировали выплатами за каждый утилизированный килограмм резины, благодаря чему таких заводов было больше. Сегодня в стране их осталось не более десяти.
Свою нишу в сфере отходов занимает и предприятие из Лисаковска, города в Костанайской области, арендующее местный полигон. Здесь с конца 90-х внедрили траншейный метод захоронения мусора — экономичный, безопасный и устойчивый к возгораниям. Органические отходы отправляют в глубокие траншеи, а после пересыпают землёй и заселяют калифорнийскими червями. Те перерабатывают отходы в плодородный грунт. Через пару лет на месте бывшей свалки растут трава и деревья.
Этот проект стал первым в регионе, где начали перерабатывать органику с помощью биотехнологий. Сегодня он занимает территорию в 26 гектаров и продолжает развиваться, несмотря на бюрократические и финансовые препятствия.