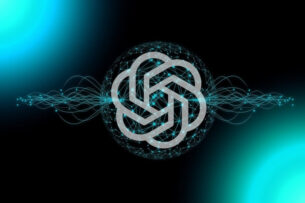Автор: Кэри Гёттлих
Мы живём в мире, где всё меньше вещей вызывает универсальное согласие, но есть одно важное исключение. Практически все национальные правительства — прямо или косвенно — сходятся в том, что уважение «суверенитета и территориальной целостности» других государств является фундаментальным принципом международного сообщества. Согласно Уставу ООН, ратифицированному в 1945 году, государства обязуются воздерживаться «от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства». (Замечу, что в этом эссе я использую термин «государство» вместо более расплывчатых понятий «нация» или «страна». Речь не идёт о подчинённых политических единицах, таких как отдельные штаты внутри США.)
Сегодня редко можно встретить человека, который открыто поддерживал бы идею о том, что аннексия территории другого государства после её насильственного завоевания может быть легитимной. Завоевание, разумеется, никуда не исчезло, но почти всегда маскируется под что-то иное.
Современные политические лидеры гордятся тем, что отвергают завоевание как нелегитимное, благодаря чему нынешний международный порядок кажется цивилизованным и миролюбивым. Что вообще может оправдать насильственный захват чужой территории? Однако идея о том, что завоевание никогда не может быть допустимым и легитимным в международных делах, относительно нова. Как утверждал голландский юрист XVII века Гуго Гроций, договоры, завершающие войны, должны соблюдаться, даже если они навязывают несправедливые условия — например, отторжение части территории государства. Такие договоры, сколь бы несправедливыми они ни были, иногда являются единственным способом прекратить войну, а отказ признавать их из принципа сделал бы окончание войн невозможным. Более того, как отмечал американский юрист XIX века Генри Уитон: «Право почти всех европейских наций на территории, которыми они ныне владеют… первоначально возникло в результате завоевания, впоследствии подтверждённого длительным владением». С этой точки зрения само существование почти любого государства неизбежно зависит от легитимности завоеваний.
Однако вместо «права народов» Гроция, которое пыталось ограничить завоевание, предоставляя ему регулируемый путь к легальности, мы сегодня имеем международный порядок, который гарантирует как абсолютное право территорию каждого государства в её нынешних границах. Запрещено не извлечение выгоды из завоевания как такового, а лишь извлечение выгоды из завоеваний, совершённых после примерно 1945 года — или даже позже, если речь идёт о завоеваниях за счёт колониальных империй со стороны новых независимых государств. Выходит, что завоевания, произошедшие до определённого исторического рубежа, считаются полностью легитимными, тогда как сегодня завоевание стало одним из самых тяжких преступлений, какие только можно вообразить.
Как мы пришли к международному порядку, столь радикально защищающему статус-кво?
Любое столь повсеместное и глубоко укоренённое явление, как современный запрет аннексии путём завоевания, является результатом совпадения множества факторов. Один из самых парадоксальных моментов заключается в том, что государства, наиболее способные к масштабным завоеваниям, зачастую оказываются их самыми яростными противниками. Неудивительно, что завоевание осуждают его жертвы или те, кто может ими стать. Но куда интереснее вопрос, почему, скажем, Соединённые Штаты, по-прежнему обладающие самой мощной армией в мире, являются убеждёнными сторонниками запрета аннексии путём завоевания. США поддерживают военное присутствие на всех континентах и часто применяют силу, но с момента аннексии Северных Марианских островов, захваченных во Второй мировой войне, они не присоединяли завоёванные территории. Почему единственная мировая сверхдержава добровольно связывает себе руки?
Ответ отчасти кроется в тех силах, которые с самого начала сформировали США: особом типе поселенческого колониализма, движимом жаждой земельной собственности, плантационного рабства, а затем сельскохозяйственного и промышленного капитализма. Примерно до 1900 года США вели непрерывную территориальную экспансию. В этом они были похожи на многие империи мировой истории, но отличались тем, что их завоевания в значительной степени осуществлялись самими поселенцами, действовавшими по собственной инициативе. Ещё до обретения независимости, когда США входили в состав Британской империи, британские власти пытались сдерживать экспансию поселенцев, поскольку она уже приводила к дорогостоящим войнам, угрожавшим стабильности европейской системы государств. После обретения независимости федеральное правительство США оказалось куда менее привержено соблюдению территориальных соглашений с коренными народами. Тем не менее ему с трудом удавалось контролировать хаотичное продвижение поселенцев на запад.
Удивительно, но немалое число будущих штатов — Калифорния, Флорида, Гавайи, Техас и Вермонт — пережили краткий период независимого суверенитета, прежде чем войти в состав США. И это лишь успешные примеры: в Аппалачах возникало множество «квазигосударств» по типу Вермонта, которые так и не получили официального признания, с названиями вроде Вандалия, Ватауга, Трансильвания, Вестсильвания и так далее.
Таким образом, завоевание всегда было центральным элементом истории США, хотя и не в той форме, которая была характерна для европейских колониальных империй, против которых они и восстали. Хотя федеральное правительство поощряло заселение, настоящим двигателем экспансии было, казалось, неизбежное продвижение поселенцев на запад. Но была ли эта форма завоевания принципиально иной, чем европейский империализм, который США в Доктрине Монро объявили завершённым в Западном полушарии? К 1890-м годам поселенческая экспансия достигла Гавайев, и возможность создания заморской империи европейского типа стала для США вполне реальной. Характер американской империи стал предметом оживлённых общественных дебатов.
Завоевание в 1890-х оказалось зажатым между принципами laissez-faire и либерального эгалитаризма. Американцы рубежа XIX–XX веков спорили о том, каким должен быть их империализм. Историки часто описывают этот спор как противостояние «империалистов» — таких как морской офицер и историк А. Т. Мэхэн — и «антиимпериалистов» вроде консервативного социолога Уильяма Грэма Самнера. Но между ними было много общего. И для Мэхэна, и для Самнера завоевания имперской Испании были отвратительны, поскольку противоречили свободе и предприимчивости, которые, по их мнению, лежат в основе жизнеспособности наций. Самнер считал, что завоевание Филиппин равносильно «завоеванию Соединённых Штатов Испанией», поскольку колониальный экспансионизм заразит американскую политику. Мэхэн, хотя и выступал за создание сильного флота и расширение влияния США на Гавайях и в зоне Панамского канала, тоже видел в Испании пример «неправильного» империализма. Испания добывала богатства, «выкапывая золото из земли», отправляя его в метрополию и закупая товары у других стран. В отличие от этого государственно-централизованного империализма, Мэхэн полагал, что «колонии лучше всего развиваются, когда растут сами собой, естественно», исходя из характера и амбиций своих поселенцев. Его взгляды отражали особый путь поселенческой экспансии США до 1900 года.
Когда американское расселение охватило весь континент, следующий шаг стал неочевиден. Как видел это Самнер, завоевание в 1890-х оказалось между свободным рынком и принципом равенства. Если завоёванный народ «цивилизован», то в завоевании нет смысла — все выгоды можно получить через торговлю. Если же он «нецивилизован», то установление над ним власти подрывает доктрину о том, что «все люди равны».
США разрешили это противоречие, выработав особый тип империализма: от поселенческого — к такому, где авангардом, по крайней мере в теории, становятся торговля и бизнес. Новый американский империализм опирался на старый в том смысле, что не управлялся напрямую централизованным государством или имперским центром. Вместо фермеров и поселенцев XIX века главными агентами экспансии XX века стали экспортёры и железнодорожные магнаты. Их экономическая активность за рубежом, утверждали американские лидеры, должна была приносить процветание внутри страны и смягчать классовые конфликты.
План этого нового империализма был изложен в так называемых «нотах открытых дверей» 1899 и 1900 годов. Политика «открытых дверей» представляла собой дипломатическое наступление США против устаревшего европейского империализма в Китае и должна была расчистить путь для американского бизнеса. В ноте 1899 года, разосланной госсекретарём Джоном Хэем столицам великих держав, утверждалось право всех государств торговать в Китае на равных условиях. Вторая нота, отправленная в 1900 году на фоне Боксёрского восстания, провозглашала стремление США к миру в Китае, сохранению его «территориальной и административной целостности», защите американских прав и обеспечению «принципа равной и беспристрастной торговли».
США последовательно поддерживали политику открытых дверей в Китае в первые десятилетия XX века. В 1915 году госсекретарь Уильям Дженнингс Брайан заявил, что США не признают никаких соглашений, «ущемляющих договорные права Соединённых Штатов и их граждан в Китае, политическую или территориальную целостность Китайской Республики или международную политику, известную как политика открытых дверей». После Первой мировой войны эта политика легла в основу Договора девяти держав 1922 года, в котором США, Великобритания, Бельгия, Китай, Франция, Италия, Япония, Нидерланды и Португалия обязались «уважать суверенитет, независимость и территориальную и административную целостность Китая».
Почти сразу после Испано-американской войны 1898 года, в ходе которой США завоевали Филиппины, Пуэрто-Рико и Гуам, американские официальные лица начали публично заявлять о своей оппозиции завоеваниям. Королларий Рузвельта к Доктрине Монро, утверждавший право США вмешиваться в дела стран Западного полушария для поддержания порядка, сопровождался заверениями, что «Соединённые Штаты не испытывают жажды земель… всё, чего желает эта страна, — видеть соседние государства стабильными, упорядоченными и процветающими». В 1906 году госсекретарь Элиу Рут отправился в тур по Южной Америке, повторяя формулы вроде: «Мы не желаем побед, кроме побед мира; не желаем никакой территории, кроме своей собственной; не желаем никакого суверенитета, кроме суверенитета над самими собой».
Именно в этот период вмешательства США в Латинской Америке резко участились. При президенте Теодоре Рузвельте (1901–1909) США взяли под контроль Панамский канал (1903), оккупировали Кубу (1906–1909), вмешивались в дела Доминиканской Республики (1904) и Гондураса (1903 и 1907). Но после более чем столетия территориальной экспансии — путём покупки и завоеваний за счёт европейских империй, коренных народов и поселенческих республик — США официально отказались от территориальных завоеваний.
Идею отмены завоеваний не всегда связывают с США и их неформальными имперскими амбициями. В последние годы аналитики ведущих think tank’ов по международным отношениям стали увязывать принцип территориальной целостности с тем, что они называют «международным порядком, основанным на правилах». Обычно его истоки выводят из создания ООН после Второй мировой войны, когда мировое сообщество попыталось извлечь уроки из катастрофы и выстроить более мирный порядок. Многие исследователи указывают и на Устав Лиги Наций 1919 года как на начало отказа от завоеваний: статья 10 обещала «уважать и сохранять от внешней агрессии территориальную целостность и существующую политическую независимость всех членов Лиги». Какую роль в этом сыграла политика открытых дверей?
Чтобы понять это, необходимо увидеть, насколько с самого начала статья 10 была противоречивой и двусмысленной. В США именно она стала главной причиной отказа Сената от вступления в Лигу Наций: существовал риск, что она обяжет страну вмешиваться в чужие войны. Канада неоднократно пыталась смягчить или исключить эту статью. Почему канадская армия должна нести ответственность за поддержание всех мировых границ, многие из которых могут быть несправедливы и которые некоторые народы вправе стремиться изменить?
В январе 1923 года Франция вторглась и оккупировала Рур в ответ на неуплату Германией репараций. В августе того же года Италия захватила греческий остров Корфу после убийства итальянского генерала. Франция опасалась, что неправильное вмешательство Лиги в итало-греческий конфликт привлечёт внимание к её собственной оккупации Рура. Что означала статья 10 в подобных ситуациях?
Постоянная консультативная комиссия Лиги Наций, вероятно, учитывала эти сложности, когда в том же году попыталась — и не смогла — договориться о более конкретном определении «агрессии». Делегаты Франции, а также Бельгии, Бразилии и Швеции утверждали, что старое понимание агрессии как простого пересечения границы утратило смысл в условиях современной войны, и предлагали более сложную концепцию, учитывающую разные факторы. Это, разумеется, защитило бы Францию от автоматического обвинения за оккупацию Рура. Великобритания же, опасаясь, что её ослабленные военные ресурсы окажутся втянутыми в конфликт с США, фактически остановила все попытки Лиги дать определение агрессии. Премьер-министр Рамзи Макдональд выразился запоминающе: любое определение агрессии станет лишь «ловушкой для невиновных и указателем для виновных». К концу 1920-х годов значение статьи 10 оставалось крайне неясным.
К 1930-м годам ситуация изменилась: неопределённость сменилась паникой. Крах Уолл-стрит 1929 года привёл к мировой депрессии, Великобритания отказалась от золотого стандарта, Япония завоевала Маньчжурию и создала там марионеточное государство Маньчжоу-го, а в 1933 году к власти в Германии пришёл Гитлер. Мировые условия вынудили Лигу Наций искать большую определённость.
На сцену вышел госсекретарь США Генри Стимсон — выпускник Гарвардской школы права, член тайного общества «Череп и кости» в Йеле и потомок одного из отцов-основателей США Роджера Шермана. Стимсон внимательно следил за действиями Японии в Маньчжурии, стремясь сохранить политику открытых дверей. Первоначально позиция Вашингтона напоминала британскую: и у Японии, и у Китая были свои аргументы, а лучшее, что можно сделать, — добиться соглашения. Однако Стимсон пошёл дальше и пришёл к выводу, что Япония вышла за рамки поведения «ответственной великой державы». Она не просто защищала свои интересы вокруг Южно-Маньчжурской железной дороги, как утверждала, а устанавливала политический контроль над всей Маньчжурией и бомбила города, удалённые от железнодорожной зоны.
Не сумев добиться поддержки жёстких мер, Стимсон сделал решающий ход: направил дипломатическую ноту, фактически повторяющую позицию Брайана, но с куда более широкими последствиями. США отказывались признавать любые соглашения или ситуации, возникшие в нарушение договорных прав Соединённых Штатов, включая нарушения территориальной и административной целостности Китая и политики открытых дверей. Эта позиция вошла в историю как Доктрина Стимсона — доктрина непризнания завоёванных территорий. Через решения Совета и Ассамблеи Лиги Наций, Договор о ненападении 1933 года и последующие соглашения принцип непризнания завоеваний стал нормой международного права и остаётся таковой до сих пор.
Почему доктрина Стимсона 1932 года стала международным правом, тогда как похожая нота Брайана 1915 года была проигнорирована? Одной из причин стало то, что японская агрессия вышла за пределы Маньчжурии и затронула Шанхай, где у европейских держав были значительные интересы. Но важнее было и другое: в 1915 году США были периферийной державой, тогда как Первая мировая война превратила их в ключевую силу, уничтожив многих конкурентов. Британские дипломаты относились к доктрине непризнания скептически, считая её чрезмерно моралистичной и чуждой британской традиции. Однако к началу 1930-х годов Британия управляла убывающей империей и была куда уязвимее.
Министр иностранных дел Великобритании сэр Джон Саймон стремился избежать катастрофы, стараясь угодить всем — США, Лиге и Японии одновременно. Когда Стимсон попытался добиться коллективного подтверждения принципов открытых дверей, Саймон нашёл компромисс: он позволил Лиге Наций озвучить доктрину непризнания, избегая при этом санкций. 16 февраля 1932 года Совет Лиги утвердил заявление, включавшее доктрину Стимсона. Все стороны остались относительно довольны: Стимсон получил поддержку, Лига — принципиальность, а Япония избежала наказаний.
Однако в самой Маньчжурии доктрина мало что изменила. Более того, оккупация Маньчжурии стала лишь прологом ко Второй мировой войне — крупнейшей войне завоеваний в истории. Она не остановила Италию от завоевания Эфиопии и не удержала Японию от дальнейшей агрессии в Китае и Нанкинской резни.
Почему важно помнить, что современный запрет завоеваний во многом является продуктом неформального американского империализма? Один из ответов связан с изменением внешней политики США при Дональде Трампе. В 2019 году США первыми признали фактическую аннексию Израилем Голанских высот.
Риторика имеет значение, особенно если за ней следуют действия. Но значение сдвигов в политике США зависит и от реакции других государств. Запрет завоеваний никогда не был исключительно американским проектом: он опирался на интересы большинства государств, не желающих быть завоёванными.
Принцип территориальной целостности сложен. В трактовке Вудро Вильсона он означал запрет именно аннексии, но не вооружённого вмешательства. Эта узкая интерпретация вновь проявилась при вторжении США и их союзников в Ирак в 2003 году, когда уважение территориальной целостности означало сохранение границ, но не отказ от военного контроля.
Сегодня именно такая узкая трактовка больше всего страдает от недавних аннексий. Завоевание остаётся незаконным, но его моральный вес может снижаться. Международные порядки приходят и уходят. До нынешнего существовал порядок, в котором завоевание регулировалось, но не запрещалось. Новый порядок неизбежно придёт — и всё менее вероятно, что отношение к завоеваниям будет формироваться под влиянием идеологических конструкций США.
Оригинал: Aeon