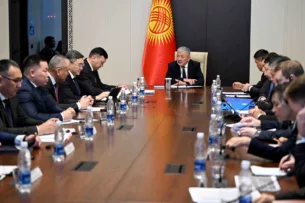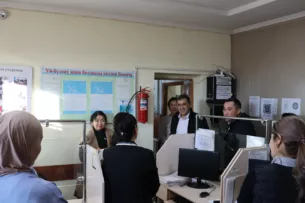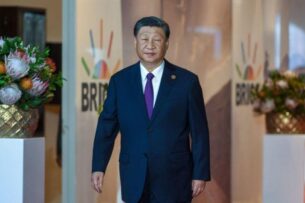Публикуем фрагменты лекции 1988 года Мераба Мамардашвили, которые были размещены сайте «»Моноклер». Философ обращается к проблеме человека и на примере российской действительности размышляет, как закостенелая «человеческая, слишком человеческая» привычка к взаимным уступкам и всеобщее попустительство отменяют возможность гражданского общества и почему, только посмев расстаться с привычным, старым и удобным образом себя, приблизившись к своему пределу, избавившись от постоянных самооправданий и мифологичной беспредметной иллюзии любви к человечеству в целом вместо любви и уважения к осязаемому человеку рядом, мы можем приблизиться к образу настоящего «возможного человека»:
Возможный человек (фрагменты)
<…> Философские утверждения, в особенности когда они относятся к человеку, имеют всегда некоторый отвлеченный спекулятивный умозрительный смысл. Этот смысл трудно уловить по той простой причине, что даже если мы хотим высказать нечто не наглядное, а лишь умопостигаемое, то все равно мы пользуемся словами из обыденного языка, каждое из которых имеет наглядные предметные референции.
Чтобы пояснить то, о чем сейчас говорится, я возьму простой пример (хотя простые примеры опасны тем, что они требуют какой-то согласной интуиции для своего восприятия). Простым примером будет наше положение в мыслительной и культурной среде. Мы живем, погруженные в слова и некоторые культурные навыки и стереотипы. Мы рождаемся в этой среде (я имею в виду российскую среду, причем под словом «российская» я понимаю не этнический, а социально-политический феномен, называемый Россией, который, естественно, включает и узбеков, и грузин, и армян (Лекция была прочитана в 1988 году до развала СССР. — Прим. ред.).
Наше положение я выразил бы так: это положение прислоняющихся неумех! Все мы живем, прислоняясь к теплой, непосредственно нам доступной человеческой связи, взаимному пониманию, к некоторым чаще всего неформальным и «внезаконным» отношениям. Закон же максимально формален и лишен того оттенка человечности, который мы ожидаем от него. Мы компенсируем это некой человечной, аморфной, неартикулированной связью взаимных подмигиваний, взаимных пониманий, которые устанавливаются всегда поверх и помимо каких-либо законов и формальных критериев.
Я бы выразил эту ситуацию так: если иметь в виду проблему отопления, то мы обогреваемся соприкосновением наших человеческих тел, то есть тем теплом, которое излучают сжавшиеся, или сбившиеся, в ком человеческие тела — в то время как другие изобретают паровое отопление. Нам свойственна погруженность в непосредственную человечность, мы не способны разорвать связь понимания. Например: «Я же понимаю, что не он виноват, а его в эту роль запихнула судьба, и жизнь, и быт…» Мы как бы компенсируем взаимным пониманием и взаимным человеческим обогревом варварство и неразвитость нашей социальной, гражданской жизни. Все, что выходит за рамки этого человеческого тепла, кажется нам некими опосредованиями и формальными делегированиями наших состояний, которые, уходя от нас в область необозримого, тем самым как бы лишаются знака человечности, и мы это презираем, тем более что имеем за собой давнюю российскую так называемую мирскую традицию, или традицию мира, общины.
Это — существование, которое, цепляясь за теплоту взаимного человеческого обогрева, продолжает дальше, в бесконечность именно ту жизнь, какая есть, при этом всегда думая: «Меня пронесет, если я не подниму голову и не отстранюсь от этой человеческой связи. Умирают или погибают всегда другие, а не я, меня пронесет». Это и есть «человеческое, слишком человеческое», о котором Ницше и любой другой философ сказал бы — вот то первое, что мешает человеку мыслить, первое, что отгораживает его, как экран, от себя самого, от своего реального положения в мире и от своих обязанностей. Это некоторое варварское, архаическое состояние, оставшееся в современном мире — мире, по сути уже исключающем такое аморфное состояние, мире, предполагающем некую сложную артикуляцию опосредований и формализаций социальной и гражданской жизни, наличие у людей некой культуры (если под культурой иметь в виду реальный навык и способность), наличие силы, чтобы практиковать сложность и разнообразие. Сложность и разнообразие, как известно, не могут находиться целиком в области объемлющего человеческого взгляда, который не разрывает шевелящийся ком человеческих тел.
Удачной иллюстрацией этого сбившегося кома, в котором, в отличие от законов человеческой истории, возможны лишь законы мифологического цикла и повторения, является фильм Абдрашитова и Миндадзе «Остановился поезд» ⓘ
В центре сюжета — столкновение пассажирского поезда с грузовым составом. Погибшего машиниста поезда героизируют, однако, когда в город приезжает следователь, выясняется, что к аварии привел ряд нарушений в обслуживании поезда и платформ — своеобразная круговая порука на местах. Следователь пытается найти правду, не получая одобрения со стороны жителей, которые горькой правде предпочитают миф о героической гибели машиниста. — Прим. ред.
. Если вы помните, там — налаженный человеческий мир, который является достигнутым, взаимно удобным уровнем всеобщих неумений. Никто из составляющих это общество людей ничего не умеет по-настоящему ответственно и профессионально. Они это компенсируют тем, что взаимно друг друга понимают. Приехавший следователь не хочет этого понимать — и тем самым он делает первый шаг, за которым уже следует шаг мышления. Конечно, мышление поставило бы под вопросы и законы тоже, но он делает лишь первый шаг, шаг законника.
Теперь о человеке, машинисте, который остановил поезд: он, разумеется, оказался героем, поскольку взаимная цепь всеобщей лени и неумений — и одновременно взаимопомощи — вытолкнула его на роль человека, который якобы героически пожертвовал своей жизнью. И символ героизма должен быть закреплен, потому что все понимают, что погиб кормилец семьи, а семья эта должна кормиться. Это понятно всем жителям городка. В итоге перед нами — калейдоскоп масок, слипшихся с лицами, и театр масок, в котором голос реальности: «Что же происходит на самом деле? Кто есть кто?» никогда не будет расслышан, если не разорвется связь «слишком человеческого»… В фильме материально показана исходная мыслительная ситуация: тот, кто осмелился сделать шаг, чтобы выпасть из человеческой связи, отмечен отдельно. Его могут и камнями забросать. Помните, следователь проходит как бы сквозь строй жителей города, осуждающе на него смотрящих. А как же иначе, ведь они объединены в привычный комок человеческого понимания и доброты, исключающий формалистическое и холодное применение закона. Его могут забросать камнями, он отмечен отдельно.
Без этой отмеченности отдельно, без того чтобы прийти в ситуацию, где тебя могут забросать камнями, не может открыться пространство человеческого мышления и не может открыться пространство человеческого существования, пространство homo sapiens. Следовательно, когда мы говорим о человеке (а я сейчас говорю о человеке), как ни странно, сам разговор должен быть построен на основе абстракций, максимально устраняющих непосредственно, человечески доступные нам вещи и экраны. В этом смысле я сказал, что в философии нет проблемы человека. Человек как существо, обладающее какими-то естественным образом данными ему свойствами, не является для философии предметом, или объектом, исследования. Объектом, или предметом, исследования и одновременно нитями или введенными в котел атомными стержнями, позволяющими случиться тому, что потом случается, является всегда только возможный человек — не какой-то определенный, наличный, а тот возможный человек, который может сверкнуть, промелькнуть, установиться в пространстве некоторого совершаемого им усилия, которое ставит его «на предел» самого себя, где прямо в лицо ему глядит облик смерти. Возможный человек символизирует способность или готовность индивида расстаться с самим собой, таким привычным и любезным, каким он был к моменту события, то есть изменить самого себя, поскольку только в измененном состоянии сознания может пройти ток реальности, и некое целое, некая реальность, как она есть сама по себе, может воссоздаться в тех состояниях, перед лицом которых человек оказался способным изменить самого себя, расстаться со слепившейся с ним скорлупой.
У древних есть одна странная формула. Я введу ее, но сначала сделаю один поясняющий шаг.
Вы знаете, что человеческий образ философскими абстракциями закреплен в трех вещах: высшем благе, красоте и в истине. Старые греческие абстракции, или отвлеченные истины… Так вот, в ситуации, которую я описывал, приводя в пример фильм, люди не являются людьми именно потому, что они загипнотизированы тем, что представляется им благом. На это философия говорит: есть высшее благо, которое стоит по ту сторону «человеческого, слишком человеческого». Вот отсюда — термин «высшее благо». Я ввожу элемент философского языка: здесь «высшее благо» не определяет какой-либо конкретный предмет и не объявляет его высшим по отношению к другим. Ведь не сказано, что именно высшее. Какая-либо наглядность и разрешимость на частном предмете здесь устранена. Высшее благо — это абстракция, обладающая свойством всех философских абстракций, которые требуют: ничто не должно определяться по содержанию. Например, долг, — долг никогда не есть, он никогда не определен по содержанию. Долгом является то, что случается в виде долга в данный момент сейчас и на месте. Он никогда не выводится ни из каких общих определений.
То же самое говорится о благе. Вот тебе благо: вдова и дети погибшего кормильца должны быть накормлены и обеспечены, и для этого можно играть в символ героя. А «символ героя» — это объективное высказывание, оно утверждает, что нечто в мире случилось так-то и так-то: «Поистине этот человек — герой!» Однако мы из–за человеческого блага согласились на ложь, на жизнь в иллюзии, в мареве. Это не было бы обидно — истина как таковая вообще никакой привилегии не имеет, — но беда в том, что одну привилегию она имеет. Ведь ложь будет бесконечно повторяться в виде одних и тех же несчастий. Если мы не принимаем смертельный предел человеческого существования (а человеческий образ в философии непредставим без сомкнутости его с символом смерти), то, значит, мы вечно прожевываем один и тот же непрожеванный кусок. Вечно с нами будут случаться те же события, которые случались, и будет в нас та же немогота, которую можно легко представить, если вообразить, что ты вечно осужден жевать один и тот же кусок. Это настоящая картина ада! Кстати, русский философ Евгений Трубецкой в своей книге «Смысл жизни» очень тонко уловил эту черту. Он сказал так: «Ад — это никогда не умирать». Умирают ведь один раз и навсегда истинной смертью — но есть еще смерть, когда ты вечно умираешь и никак не можешь умереть. Вот это ад, это — адское мучение. Это наглядно символизировано, например, в тех картинах, которые есть у Данте в «Божественной комедии».
В переходе за эту черту появляется то философское высказывание, о котором я хотел сказать. Я уже говорил о понятии высшего блага, которое, конечно, символ, а не понятие, поскольку понятие «высшее благо», как сказал бы Кант, не имеет созерцания, на котором оно могло быть разрешено, то есть под него нельзя подставить никакой конкретный предмет. Это высшее благо, лежащее по ту сторону видимой нами связи человеческих благ, и формулируется древним высказыванием, которое звучит так: «Да погибнет мир, но свершится справедливость!». Или: «Пусть свершится справедливость, но погибнет мир!». Здесь имеется в виду вовсе не побеждающий формализм закона, ради холодного, нечеловеческого торжества которого можно пожертвовать всем в мире. Так бы мы интерпретировали, если бы следовали логике и картинкам, которые подсовывает нам обыденный язык. В действительности это высказывание лишь утверждает, удерживает справедливость. Нельзя изобрести никакого конкретного закона, который бы был вполне справедлив и цель которого достигалась бы. Скажем, если бы целью закона была бы справедливость в частных случаях, то пример такого закона невозможно было бы указать, потому что всякий закон подвержен критике, всякий закон че- го-то не учитывает, и все конкретные случаи исполнения закона — не на высоте формулы самого закона и ставят под сомнение саму эту формулу. Однако философия требует, чтобы мы понимали: целью закона является сам же закон, а не конкретная справедливость частных случаев; то есть для осуществления влияния любого закона всегда и повсюду должны применяться такие средства, которые поддерживают в «подвесе» над нами сам же закон. Это состояние в «подвесе» никогда конкретно не достижимого в полной чистоте и справедливости закона и есть искомое состояние — а оно исключает нашу привязанность к тому миру, с которым мы срослись и который считаем всеобщим и окончательным. Без способности заглянуть за этот мир для человека нет ни высшего блага, ни красоты.
<…>
Вот известный феномен: российский человек безразличен к содержанию того, чем занимается. Почему? Одной из причин является дохристианская, языческая, но вторгнувшаяся в христианские термины мистика, свойственная российской культуре. Это вечное делегирование «на завтра», противоречащее определению бытия (как сказано о бытии: этого никогда не было и не будет, а есть сейчас). А мы не согласны, мы никогда не то, что сейчас. Вот я сейчас, например, делаю гадость, но у меня есть высшее сознание, что это — по необходимости, что это — не может быть иначе, и я в принципе не то, чем я являюсь сейчас, а то, чем я буду потом — в некоторой мистической точке. Для россиян характерна миститизация своего Отечества. «Мистическое тело России» — это нечто неосязаемое, ненаглядное, которое всех сзывает к себе и поэтому позволяет им проскальзывать мимо предметов, стоящих перед носом. Вместо того чтобы любить человека, живущего рядом с тобой, мы любим человечество, которое как раз в той мистической точке расположено. В итоге — мы никого не любим. Всегда нас можно дернуть за ниточку, и мы подчиняемся. Вопреки тому, что говорил Достоевский, что мы и испанцы, и французы; некая всечеловечность как будто сидит в нас, а в действительности — не сидит. Классический русский человек, будучи прекрасным испанцем, в один прекрасный день может исчезнуть из Мадрида, дернуть за ниточку из Москвы и сделать что-то такое, что уничтожит тот Мадрид, который он так любил… Не любил! Потому что он никогда не совпадает с тем, что реально, и с тем, что сейчас. Он всегда трансцендирован в пользу какого-то будущего!
Как всё это связано с настоящим? Думать, что мы сейчас способны разрешить проблемы, связанные с нашей так называемой бюрократией и ещё с чем-то? Нет, эти проблемы находятся в размерности нескольких столетий. И только возобновляя порванные нити этих столетий и восстанавливая традицию долговременного мышления, мы можем разобраться в тех человеческих проблемах, которые стоят перед нами, и в том облике человека, который возник сейчас на российских пространствах и в котором я, например, скорей бы узнал некоторую помесь носорогов с саранчой, чем человеческий облик. Как это все возникло? И снова… понять это можно, лишь поместив себя в поле долгосрочно действующих сил, некоего духа истории, и найти там, в далёких структурах российской истории, то, что сломалось, что оказалось несделанным и эсхатологической страстью не покрытым или было сделано людьми, которые не были движимы эсхатологической страстью — самой существенной страстью в человеке, которая говорит ему, что самое большое честолюбие — это исполниться, прибыть раз и навсегда, а не жить в дурной повторяемости мифа или мифического существования, которое является доисторическим существованием!